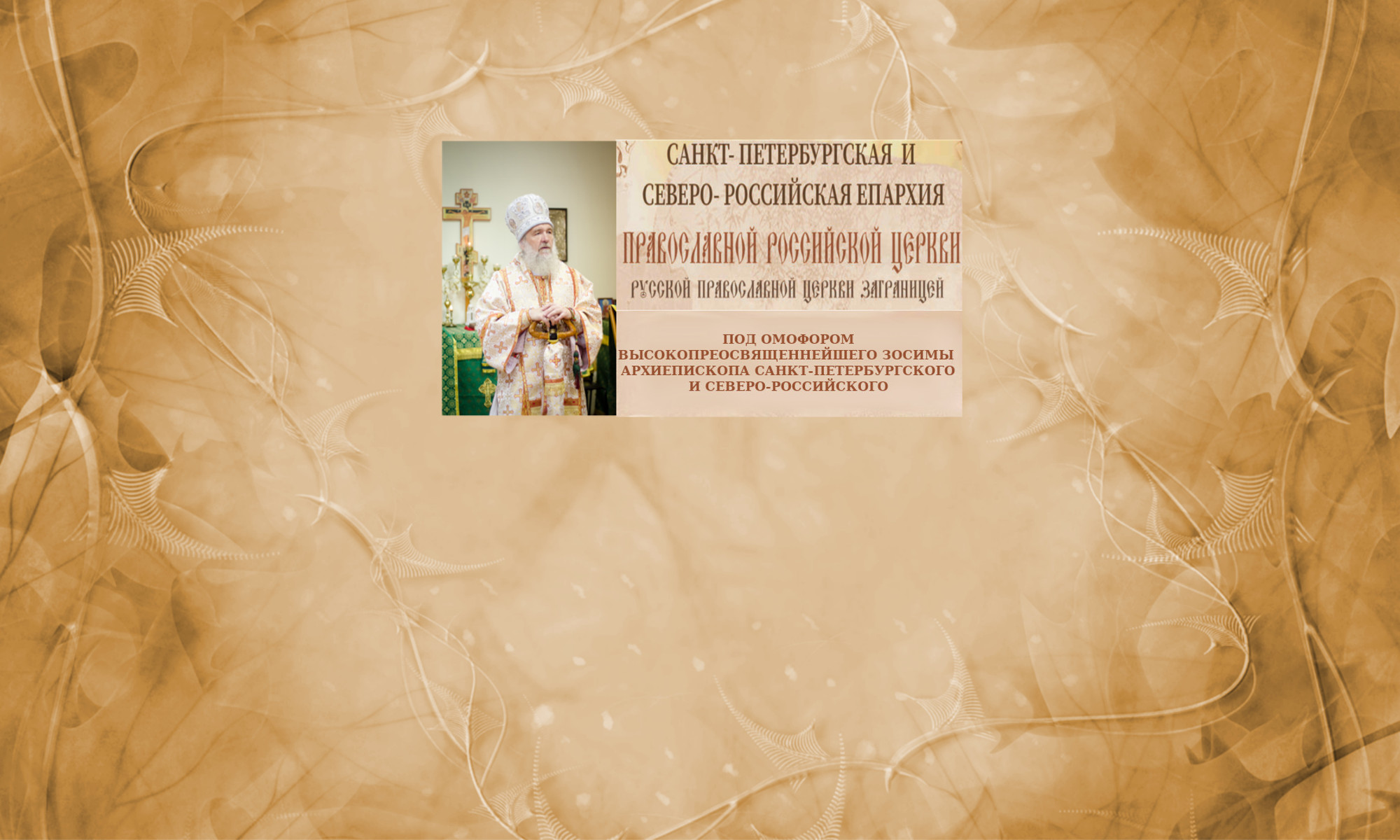Сикорская Л. Е. Экклезиология иосифлян по трудам представителей иосифлянского движения
Сикорская Лидия Евгеньевна. Экклезиология иосифлян по трудам представителей иосифлянского движения (доклад на Международной научной конференции «Церковное подполье в СССР», Чернигов, 19 ноября 2011 г.)
Исповедническое движение в Российской Православной Церкви, возникшее в конце 1920-х годов вследствие неприятия Декларации митрополита Сергия (Страгородского) и основанной на ней церковной политики, состояло из разнообразных течений и церковных групп. Значительное место в этом движении, именуемом в церковно-исторической литературе «антисергианской», «правой» оппозицией, занимало движение иосифлян. Свое название иосифляне получили по имени возглавлявшего Петроградскую кафедру с августа 1926 года митрополита Иосифа (Петровых).
К сожалению, иосифлянство как составляющая антисергианского движения еще мало изучено; целый ряд аспектов деятельности иосифлян и их экклезиология до сих пор недостаточно освещены в церковно-исторической литературе. Между тем, подобные исследования необходимы и важны, поскольку именно экклезиологические вопросы разделили митрополита Сергия и его противников. Тема эта требует не только исторического, но и глубокого богословского анализа и, надеемся, что со временем она дождется своих достойных и компетентных исследователей. Ни в коей мере не претендуя на полное раскрытие заявленной темы, в данной статье попытаемся выделить лишь основные положения экклезиологии иосифлян по их наиболее значимым и известным на сегодняшний день трудам.
Конечно, подробного и систематического изложения экклезиологии как развернутого учения о Церкви, в форме цельного научного трактата в трудах иосифлян мы не найдем. Экклезиология иосифлян формировалась не за столами, не в кабинетах, не в написании солидных научных трудов. Она возникла и выросла как необходимый ответ на разрушение Церкви не только снаружи, со стороны богоборческой власти, но, и может быть даже в большей степени, – в противостоянии возникающей лжецеркви, изнутри разлагающей и уничтожающей Истинную Церковь Христову. Возможно, именно поэтому большую часть трудов иосифлян составляют полемические статьи и письма, в которых содержатся ответы на нападки со стороны сторонников митрополита Сергия, защита собственной позиции, опровержение обвинений в расколе и т.д.
К такому роду апологетических произведений относится известное письмо митрополита Иосифа (Петровых) архимандриту Александро-Невской Лавры Льву (Егорову), впервые опубликованное за рубежом в сборнике протопресвитера Михаила Польского «Новые мученики Российские» (Ч. 2, 1957 год). Это письмо – фактически единственный документ, в котором достаточно четко выражены взгляды самого митрополита Иосифа. Письмо имело широкое хождение в церковных кругах, его машинописные копии, изъятые при арестах, находятся в различных следственных делах, оно неоднократно цитировалось в исторической церковной литературе.
В этом письме митрополит Иосиф объясняет, почему он, изначально принявший решение подчиниться беззаконной расправе (имеется в виду указ об увольнении митрополита с Петроградской кафедры и перемещение его в Одессу) и устраниться от церковных дел, все-таки к ним вернулся. Он отвечает на упреки в расколе, в отходе от митрополита Сергия до соборного решения и суда, справедливо указывая на невозможность проведения церковного собора в настоящих условиях жизни, и предполагает, что еще придет время, когда их с митрополитом Сергием рассудит настоящий Суд:
«И кто тогда будет более обвиняемым, еще большой вопрос. А пока дело обстоит так: мы не даем Церкви в жертву и расправу предателям и гнусным политиканам, и агентам безбожия и разрушения. И этим протестом не сами откалываемся от нее, а их откалываем от себя и дерзновенно говорим: не только не выходили, не выходим и никогда не выйдем из недр истинной Православной Церкви, а врагами ее, предателями и убийцами ее считаем тех, кто не с нами и не за нас, а против нас. Не мы уходим в раскол, не подчиняясь М<итрополиту> Сергию, а Вы, ему послушные, идете за ним в пропасть Церковного осуждения».
В этом же письме владыка Иосиф отвечает на главный аргумент защитников митрополита Сергия о том, что каноны позволяют отлагаться от епископа только за ересь, осужденную собором:
«Деяния митрополита Сергия достаточно подводятся и под это условие, если иметь в виду столь явное нарушение им свободы и достоинства Церкви, единой, Cвятой, Cоборной и Апостольской. А сверх того, каноны ведь многое не могли предусматривать. И можно ли спорить о том, что хуже и вреднее всякой ереси, когда вонзают нож в самое сердце Церкви – ее свободу и достоинство. Что вреднее: еретик или убийца?»
Заканчивает свое письмо митрополит Иосиф словами из 8-го правила III Вселенского Собора: «Да не утратим помалу, неприметно, той свободы, которую даровал нам Кровию Своею Господь наш Иисус Христос, Освободитель всех человеков»[1].
Этими же словами завершали свой исторический акт от 13/26 декабря 1927 года и петроградские викарии митрополита Иосифа, епископы Димитрий (Любимов) и Сергий (Дружинин). Отделившиеся от митрополита Сергия (Страгородского) вместе с несколькими петроградскими священниками, они действовали самостоятельно и уже постфактум известили об этом отделении владыку Иосифа. Примечательно, что митрополит Иосиф, считавшийся главой иосифлянского движения, непосредственного участия ни в самом движении, ни в его руководстве принимать не мог (власти не допускали его в Петроградскую епархию, а в феврале 1928 года и вовсе отправили в ссылку)[2]. И хотя к митрополиту Иосифу постоянно обращались за советами и держали в курсе всех дел, непосредственно руководство иосифлянским движением осуществлял заместитель митрополита на Петроградской кафедре, епископ (с декабря 1928 года – архиепископ) Гдовский Димитрий (Любимов), а также сподвижники владыки Димитрия. Именно в их трудах наиболее полно и были выражены взгляды и экклезиология иосифлян.
Так, владыка Димитрий в известном письме духовенству станции Сиверская объяснял, что они (петроградцы) отделились от митрополита Сергия не сразу, но лишь после того, как убедились, что его послание (Декларация) оказывает сильное влияние на церковные дела и производит не только канонические, но и догматические нарушения:
«После письменных и устных переговоров с ним, не давших ничего, кроме новых подтверждений неизменности нового направления церковной жизни, часть здешнего духовенства заявила о своем отказе считать митрополита Сергия действительно Заместителем митрополита Петра и главы Русской Церкви ввиду допущенных им правонарушений, а так как последние искажают и догматическую сторону Церкви (соборность, святость и др.), о чем сказано в обращении к митрополиту Сергию, и самое преступление митрополита Сергия – не что иное, как падение и, следовательно, отпадение от св. Церкви, то согласно 15 правилу Двукратного Собора, мы и должны были еще до соборного решения порвать духовное общение с митрополитом Сергием, оставшись в каноническом единении с митр. Петром и ближайшим законным единомысленным епископатом»[3].
Обращение от петроградских клириков, на которое ссылается владыка Димитрий, было составлено в ноябре/декабре 1927 года петроградским протоиереем Феодором Андреевым и его московским сподвижником, церковным писателем, впоследствии, как и многие иосифляне, мучеником Михаилом Александровичем Новоселовым. Текст этого Обращения хорошо известен, он неоднократно публиковался. Искажения догматической стороны Церкви, допущенные митрополитом Сергием, о которых упоминал владыка Димитрий, в нем подытожены следующим образом:
«Итак, Единство Церкви, имеющее, по словам свящ. муч. Игнатия Богоносца, свое внешнее выражение в епископе, а для целой Русской Церкви, следовательно, в патриархе, уже поколеблено в целом Вашим единением с синодом, превысившим свои права до равенства с Вами, по отдельным епархиям – незаконными смещениями местных епископов и заменою их другими, Святость Церкви, сияющая в мученичестве и исповедничестве, осуждена посланием, Ее Соборность поругана, Ее Апостольство, как связь с Господом и как посольство в мир (Иоанн. 17, 18), разрушено разрывом иерархического преемства (отвод М. Петра) и встречным вторжением в нее самого мира».
В Обращении прозвучало и еще более серьезное обвинение:
«Итак, послание все предусмотрело, чтобы придать себе вид законности, и все же оно стоит на песке. Ни патриарх, ни собор, ни соборный разум Церкви в действительности вовсе не с ним. Послание не только не является их выразителем, но напротив, лишь предварительно отступив от них и подменив их лживыми их подобиями, оно облеклось в свои призрачные права. Скажем прямо, не Церковь Русская изнесла из недр своих это послание, а, обратно, оторванное от истинной Церкви, оно само легло краеугольным камнем в основание новой “церкви лукавнующих” (Псал. 25, 5)»[4].
Подобные категоричные оценки деяний митрополита Сергия были выражены и в работе М.А. Новоселова «Ответы востязующим», написанной весной 1928 года, вскоре после отхода петроградцев от митрополита Сергия[5].В параграфе XV на вопрос: «Что преступного совершил м. Сергий против Церкви?», Михаил Александрович писал: «М. Сергий вступил в блок с антихристом, нарушил каноны и допустил равное отступничеству от Христа малодушие или хитроумие».
В параграфе IX этой же работы читаем следующее:
«Но преступление м. Сергия заключается не в одних канонических правонарушениях в отношении церковного строя, как было уже не раз показано в различных “обращениях” к нему и, в особенности, в одном подробном ученом разборе всего дела м. Сергия (см. также и здесь пар. XV), оно касается самого существа Церкви. Именно, в своей декларации м. Сергий как бы исповедал, а в делах осуществляет беззаконное слияние Божьего и Кесарева, или лучше, Христова с антихристовым, что является догматическим грехом против Церкви и определяется как грех апостасии, т.е. отступничества от Нея»[6].
Еще подробнее этот вывод обосновал протоиерей Феодор Андреев в письме епископу Иннокентию (Тихонову) в июле 1928 года. В ответ на довод епископа Иннокентия, что митрополит Сергий – не еретик, следовательно, отходить от него на основании 15-го правила Двукратного Собора нельзя, отец Феодор заявил:
«А мы утверждаем, напротив, что грех его горше всякой, анафематствованной, ереси. В самом деле, св. Василий Великий, в своем знаменитом 1-м правиле говорит, что “еретиками назвали они (древние отцы) совершенно отторгшихся, и в самой вере отчуждившихся”. Но таково и есть сергианство: в нем видимо целы все догматы, и снаружи – это церковь, но внутренне это – легализованная организация, мистически пустая»…
«Ведь легализовать Церковь так, как это сделал м. Сергий – это значит, употребляя его выражение, сообщить ей вид “всякого публичного собрания”; но это и значит лишить ее подлинной мистической сущности, и благодати, и веры, и совершенно отторгнуться и отчуждиться от нее, т.е. подпасть 1-му Правилу cв. Василия Великого, и быть осуждену 2-й половиной правила 15-го Собора Двукратного. Воистину, Владыка, сергианство для многих потому и ускользает от обвинения его в еретичности, что ищут какой-нибудь ереси, а тут – самая душа всех ересей: отторжение от истинной Церкви и отчуждение от подлинной веры в ее таинственную природу, здесь грех против мистического тела Церкви, здесь замена его тенью и голой схемой, костным остовом дисциплины. Здесь ересь как таковая, Ересь с большой буквы, ибо всякая ересь искажает учение Церкви, здесь же перед нами искажение самой Церкви со всем ее учением».
«Итак, м. Сергий подменил не какой-нибудь отдельный догмат еретической ложью: он подменил саму Церковь: вот почему за деревьями его обманчивых слов не видят леса его церковной неправды. Вот почему и мы отреклись и “лица и дел его”, т.е. отреклись от сергианства в целом, а не от административной, ритуальной (“непоминовение”), дисциплинарной и других подобных связей с м. Сергием и его синодом, каковые все противуканоничны, т.к., допуская его, как главу, отказывают ему в канонических правах всякого законного церковного возглавления»[7].
Следует отметить, что именно протоиерей Феодор Андреев вместе с его единомышленником и другом М.А. Новоселовым много сделали для экклезиологического обоснования иосифлянского и, в целом, антисергианского движения. Недаром в следственных документах они именуются «идеологами иосифлянства», дававшими «основу и направление как самому епископу Дмитрию, так и всему контрреволюционному ядру организации иосифлян»[8].
Приведенное письмо отца Феодора Андреева ссыльному епископу Иннокентию (Тихонову) было написано им по благословению епископа Димитрия (Любимова)[9]. Можно сказать, что в этом письме наиболее полно выражены экклезиологические воззрения иосифлян. Письмо это весьма пространно и, в отличие от иных документов, довольно непросто для восприятия. Предназначалось оно не для широкого распространения, а для еще недавно близкого по духу архиерея и равного собеседника с богословским образованием. Как уже было сказано, написано оно было протоиереем Феодором в ответ на большое письмо епископа Иннокентия, в котором тот постарался («потщался») разобраться во всем происшедшем. Выводы епископа Иннокентия оказались неутешительными. Осуждая то, что совершил митрополит Сергий (Страгородский) со своим Синодом, он не мог, между тем, согласиться с отходом от митрополита Сергия иосифлян. Так он и писал об этом епископу Димитрию: «Не подумайте, дорогой Владыка, что я собираюсь оправдывать перед Вами слова и действия м. Сергия. Признаюсь Вам: я его не понимаю, не понимаю того, что им сказано и сделано. Не нахожу сказанное и полезным для Церкви Христовой. Я бы и вообще не взялся богословски и канонически его оправдывать или защищать. Бог ему судья. Не м. Сергия я защищаю здесь, а церковное единство и церковное благо».
В результате епископ Иннокентий в своем письме выдвинул целый ряд обвинений в адрес иосифлян. Так, он заявил, что иосифляне находятся в разрыве с Кафолической Церковью («Вы – не церковь, Вы – “секта”. Само же Тело церковное осталось там, где м. Сергий и кто с ним»[10]). Безусловно, отец Феодор вместе со всеми иосифлянами стоял на противоположной точке зрения: «Мы не ушли никуда и не изменились, мы остались там, где были, пребываем теми же, какими были, это м. Сергий изменился, он уходит от чистоты православия и, следовательно, из Церкви. Мы находимся в церковном общении и храним апостольское преемство через м. Петра». (Здесь стоит вспомнить и приведенные нами выше слова митрополита Иосифа на подобные обвинения: «… не только не выходили, не выходим и никогда не выйдем из недр истинной Православной Церкви…»).
Кроме того, епископ Иннокентий обвинил иосифлян в нарушении самого церковного единства и даже в нарушении Догмата о Церкви, который для него, как отметил это протоиерей Феодор, тоже сводился к догмату о единстве Церкви. Представляется, что именно понятие церковного единства было особенно значимым для епископа Иннокентия, впрочем, как и для многих других защитников митрополита Сергия. Протоиерей Феодор, разбирая это понятие, показывает, что употребление и понимание его защитниками митрополита Сергия весьма отлично от истинного понимания церковного единства и, в их трактовке, скорее соответствует понятию «дисциплины». Отец Феодор спрашивает владыку Иннокентия, в чем же единство его с епископом Сергием, если он ни понять, ни оправдать последнего не может ни богословски, ни канонически, а с иосифлянами, при всем внутреннем сочувствии к ним, должен разойтись, подчиняясь митрополиту Сергию?
Далее отец Феодор приводит множество выписок из письма епископа Иннокентия о единстве и резюмирует:
«Вы не будете отрицать, что в них заключается одна мысль, что эта мысль вообще главная (согласитесь – единственная) в Вашем письме, и что это – мысль о Единстве Иерархии, как основании единства Церкви (не о преемстве Апостольском, о котором Вы едва упоминаете, а именно о Единстве, как крепкой сплоченности, на основе послушания высшему церковному правлению; хотя, конечно, и необходимость Апост<ольского> преемства Вы не отрицаете) – и вот мне кажется, Владыка, что эта мысль Ваша, будучи односторонне понятой, может привести почти к еретическому представлению о Церкви. В самом деле, ведь ересь, как “выбор”, что значит это слово по-гречески, может означать и незаконный отбор одного догмата из живой связи его с другими – напр., “савеллианство” – предпочтение – отбор – Единства Божия перед Его Троичностью, монофизитство, что ясно и из греч<еского> слова, – односторонний уклон в Божественную природу Господа, с затенением человеческой [природы]… Поэтому и против Вашего неосторожного суждения я должен всемерно восстать, как против учения, могущего привести к несогласию с Православным Догматом о Церкви».
А по поводу сергианского «единства церкви», на самом деле являющегося единством иерархии, связанной одной бездушной дисциплиной, отец Феодор прямо заявляет, что «это один из главных догматов сергианства», и что настоящие сергиане, в отличие от епископа Иннокентия, не стесняясь, предпочитают употреблять вместо слова «единство» слово «дисциплина». Яркое свидетельство тому – послание одного из членов Синода митрополита Сергия, преосвященного Вятского Павла (Борисовского) от 1/14 декабря 1927 года. В этом послании архиепископ Павел призывал вятскую паству содействовать «восстановлению по вверенной мне епархии внутренней служебной дисциплины», и далее разъяснял:
«Ведь эта дисциплина, эта организация, ведь есть необходимейший остов, костный стан мистического тела Церкви. Поэтому, кто необдуманными выступлениями, ревностью не по разуму, или беспринципным, неосмысленным упорством разрушает этот стан, наносит своим неподчинением законному священноначалию, или обманом, удары в остов дисциплины Церкви, тот является врагом Христа, содействует разорению вселенского Тела Церкви Его… Паки призываю Вас быть гражданами, законопослушными предлежащей [предержащей?] Соввласти [так!] не за страх, а за совесть, и добрым поведением своим и честным трудом содействовать ей в заботах ее о гражданском благоустройстве и мирном преуспеянии дорогой родины нашей. Вознесем же песнь хвалы и благодарения Господу Богу за Его великую милость к нам, явленную в даровании вполне легализованного и открыто действующего Временного священного Патриаршего Синода и т. д.».
«Что сказать на все это, Владыка? – Пишет протоиерей Феодор Андреев. – Первое то, что дисциплина церковная, в сергианском смысле, мыслится не отдельно от какой-то другой, а, второе, – обратно, что она представима именно лишь в полном разобщении с “мистическим телом Церкви”, т.к. костный стан обнажается и может быть рассматриваем отдельно, вне органической связи с телом, лишь тогда, когда тело уже сгнило, т.е. – в том повапленном гробе, куда сергианцы тщатся уложить св. Церковь.
Вы, вероятно, возразите, что епископ Павел допустил лишь простое сравнение и довольно неудачное, и, м.б., сами совершенно отречетесь от такого представления Иерархии в виде костного остова, поддерживающего мистическое тело Церкви. Я и сам, Владыка, не хочу быть придирчивым к отдельным и случайным выражениям, но в данном случае я имею основание видеть не простое сравнение, а роковое признание сергианской души. Лишь при утрате подлинно мистического восприятия мистического же, воистину, Тела Церкви, становятся возможными такие наглядные представления о ней. Ведь, действительно, точно на позор всему сергианству с его всепроницающею лживостью и измышлениями земной, душевной и бесовской мудрости, явилось это, по своему замечательное, изображение Иерархического строя Церкви. Можно сказать с уверенностью, что если оно дано по вдохновению, то это вдохновение от прелести, т.к. на такую анатомию мистического восприятия способны лишь самообольщенные мистики».
«Итак, перед нами, несомненно, очередное человеческое измышление, столь обычное в среде сергиан, не соответствующее богооткровенной и святоотеческой правде. Но я, Владыка, повторяю, считаю его роковым, т.к. оно, по-своему точно, воспроизводит иную правду, которая есть неправда сергианского нечестия».
Желая опровергнуть эту неправду, протоиерей Феодор пишет о том действительно живом единстве в Церковном организме, о живой связи между епископом – истинным пастырем – и его паствой, и о том, как оно разрушено политикой митрополита Сергия; о том, как обезличивается Божественная Литургия, когда митрополит Сергий объявляет ее подлежащей «правилам всяких публичных собраний», когда из нее исключаются молитвы за гонимых и томящихся в узах пастырей, когда указом от 8/21 октября 1927 года введено поминовение имени митрополита Сергия и отменено поминовение митрополита Петра «Господином нашим». Протоиерей Феодор рисует в целом общий вид сергианской церкви, по его собственным словам – «Церкви предателей Истинного Тела Христова», потерявшей все признаки истинной Церкви, как живого организма, как Тела Христова, и превратившейся в земную организацию, связанную лишь внешним единством, слепым подчинением своему главе и партийной дисциплиной.
В ответ на призыв епископа Иннокентия «вернуться в церковь», т.е. в такую земную организацию, протоиерей Феодор возражает:
«Мы – в Единой, Истинной, Святой, Соборной, Апостольской Церкви. Сергианство же – труп, гниющий, распадающийся, как за последнюю скрепу держащийся за свой костяк, за свое внешнее единство… Ведь это единство есть, действительно, то единственное, что остается у сергиан для придания себе вида тела церковного, а слепая дисциплина и послушание – единственная скрепа для него».
Давая оценку и этому внешнему единству, и дисциплине, которая на самом деле оказывается таким же пустым и лживым понятием, как и все в сергианстве, протоиерей Феодор ярко пишет о церковной лжи, приведшей к отделению митрополита Сергия от Церкви, и в целом, о том действии, которое оказывает эта ложь, как и всякое лживое слово.
Анализируя заблуждения своего оппонента по отношению к словам Св. Писания о последних временах, он доказывает правильность и согласованность иосифлянского их понимания с Церковным преданием, а также обоснованность использования иосифлянами образов Апокалипсиса.
Конечно же, трудно кратко передать все глубочайшие и духовно-проникновенные мысли петроградского исповедника, изложенные им в этом обширнейшем письме, да и в пересказе или сжатом цитировании они неизбежно упрощаются и, возможно, до некоторой степени теряют свою суть. Безусловно, это письмо заслуживает самого пристального внимания вдумчивого читателя и нуждается в глубоком богословском исследовании.
Основной же вывод, к которому приходит протоиерей Феодор в этом письме, весьма неутешителен для его оппонентов:
«Итак, нигде, ни в какой области [отрасли?] сергианства не ощущается присутствие Духа истинного и животворящего, нет подлинной связи с лозою Тела Христова, нет места для исповедания тайны Боговоплощения не одними лишь устами, но и самим делом. Лестчий дух сергианства не исповедует Христа во плоти пришедша, поэтому нельзя верить и сергианским устам. Поэтому и само сергианство есть одна лишь воплощенная ложь и духовная пустота и бессилие. Это Ложь с большой буквы, это Лесть перед одними, обольщение других, это воистину “церковь лукавнующих”. Это еще не антихрист, но это уже его Антицерковь».
Следует обратить внимание на тот факт, что к тем же выводам и почти в то же самое время приходят и другие исповедники Российской Церкви. Так, весьма показательны в этом плане письма епископов-исповедников Виктора (Островидова), епископа Глазовского, и Павла (Кратирова), епископа Старобельского, которые совершенно единодушны с петроградскими иосифлянами в оценке декларации и деяний митрополита Сергия, и определяют их как явную измену Истине, отступничество, апостасию, и также видят в них не что иное, как создание лжецеркви.
Епископ Павел в письме от 31 декабря 1927 года, в ответ на любимые доводы сергиан «о спасении Церкви», заявил, что «митрополит Сергий спасает не Церковь Божию, а тело блудницы и барахло ее…»[11], а в статье «Церковь в пустыне» от 25 мая 1928 года подчеркнул, что митрополит Сергий возглавляет «ныне группу преосвященных вредителей, продавших свободу Церкви и создавших на основах модернизированного Богоотступления Церковь-Блудницу»[12].
Епископ Виктор в своем знаменитом письме вятскому духовенству от 28 февраля 1928 года также категоричен в своих суждениях:
«Отступники превратили Церковь Божию из союза благодатного спасения человека от греха и вечной погибели в политическую организацию, которую соединили с организацией гражданской власти на служение миру сему, во зле лежащему (I Иоан. V, 19).
…Ведь ни у вас со своим епископом, ни у меня с М<итрополитом> Сергием никаких личных между нами недоразумений нет; дело наше не личное или местных интересов, или каких-либо спорных недоказанных мнений, а дело непосредственного практического разрушения нашего общего вечного спасения самою церковною властью через замену ею истинной Церкви ложною, Жены, облеченной в Солнце (Апок. XII, 1) великою блудницею (XVII, 1)»[13].
Этот же апокалиптический образ использовали в своих трудах идеологи иосифлянства. Протоиерей Феодор Андреев в вышеприведенном письме епископу Иннокентию, ссылаясь на Церковное предание[14], обосновывал правомерность употребления образа жены, садящейся на зверя, в применении к лжецеркви митрополита Сергия. А М.А. Новоселов дал развернутое толкование образа апокалиптической блудницы в своем знаменитом «Письме к другу»[15]:
«“И повел меня (один из семи ангелов) в духе в пустыню; и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными… и на челе ее написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых, и видя ее, дивился удивлением великим” (Апокалипсис 17: 3, 5, 6).
И как было не дивиться св. Тайнозрителю, когда он узрел пред собою преображение “жены, облеченной в солнце”, имевшей под ногами луну и на главе “венец из двенадцати звезд” (Апок. 12, 1) в “великую блудницу” (Апок. 18, 2), “мать блудницам и мерзостям земным”, “упоенную кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых”!
Друг мой! Не видим ли мы нечто подобное собственными глазами? Не проходят ли перед нами события, невольно приводящие на память духовные созерцания Новозаветного Тайновидца? Сопоставьте приведенные выше слова Апокалипсиса с делом и деяниями наших живоцерковников и обновленцев? Не приложимы ли они к ним, почти до мелочей?
Гораздо значительнее в указанном апокалиптическом смысле представляются события последних дней, связанные с именем Митрополита Сергия. Значительнее хотя бы по одному тому, что усаживается на зверя багряного с именами богохульными не самочинная раскольница, а верная жена, имущая образ подлинного благочестия, видимо не оскверненного предварительным отступничеством. В этом главная, жуткая сторона того, что совершается на наших глазах, что затрагивает глубочайшие духовные интересы чад Церкви Божией, что неизмеримо по своим последствиям, не поддающимся даже приблизительному учету, но по существу имеющим мировое значение, ибо таковое значение принадлежит изначала Церкви Христовой, единой, истинной (православной), на которую с небывалой силой ополчаются теперь силы ада, и с которой мы связаны не в сем веке только, но и в будущем, если действительно возлюбили век оный.
Как же нам быть в эти страшные минуты новой опасности, надвинувшейся по наущению вражьему на нашу Мать, Святую Православную Церковь? Как быть, чтобы не выпасть из Ее благодатного спасительного лона – и не приобщиться нечестию богохульного зверя и сидящей на нем блудной жены? Господи, скажи нам путь, воньже пойдем!»[16]
В отношении апокалиптического образа блудницы, применяемого к сергианской церкви, следует отметить, что этот образ в дальнейшем широко использовался в предании ушедшей в катакомбы Российской Православной Церкви. Предание это сохранялось главным образом устно. Письменных источников в катакомбах ХХ века[17] было не много, а, если не принимать во внимание писания сомнительного характера, то оригинальных произведений катакомбных авторов и того меньше. И едва ли следует искать в них систематического изложения богословских или экклезиологических взглядов. В условиях постоянных преследований и гонений, когда физически были истреблены почти все ее архипастыри и большая часть священства, Российская Катакомбная Церковь практически лишилась богословов, учителей и проповедников, и в великом подвиге своего исповедничества, самим фактом своего существования и тайного служения, молчаливо, но убедительно и терпеливо свидетельствовала об Истине и Истинной Церкви Христовой. Голосом же ее для всего мира стала Русская Православная Церковь За границей – та часть Российской Православной Церкви, которая, промыслительно оказавшись за границами советского богоборческого государства, подобно ушедшим в катакомбы не поклонилась красному зверю, но сохранила свою духовную свободу. Неудивительно, что зарубежные ревнители Православия были единомышленны со своими гонимыми братьями на родине.
Подробное рассмотрение экклезиологических взглядов членов РПЦЗ выходит за рамки обозначенной нами темы и может стать предметом для отдельного изучения. Однако, дабы не быть голословными, в Приложении к данной статье мы приведем некоторые материалы в доказательство экклезиологического единомыслия истинно-православных христиан в России и за рубежом.
Здесь же еще раз обратимся к письму М.А. Новоселова: в заключении его приведены слова одной блаженной, которой, по-видимому, сказали, что митрополит Сергий не погрешил против канонов, что он не еретик. «Что же, что не еретик! – возразила блаженная. – Он хуже еретика: он поклонился антихристу, и если не покается, участь его в геенне вместе с сатанистами».
«Все это вместе взятое, – размышляет Михаил Александрович, – и многое другое, видимое и слышимое, заставляет живые верующие души настораживаться и внимательно всматриваться в развертывающуюся перед нами картину усаживания жены на зверя. Эти души чувствуют новую, небывалую опасность для Церкви Христовой и, естественно, бьют тревогу. Они, в большей части своей, не спешат с окончательным разрывом с церковными “прелюбодеями”, в надежде, что совесть их не сожжена до конца, а потому возможны покаяние и исправление, т.е. отвержение начатого ими темного дела. Сбудется ли это чаяние?! От души говорю: подай Господи! Но в самой глубине его нахожу сомнение и, однако, пока не ставлю точки над i. Пусть поставит ее время, а точнее сказать, Владыка времен! Он же да сохранит нас как от легкомысленной поспешности, так и от преступно равнодушной медлительности в том страшно ответственном положении, в которое мы поставлены Промыслом Божиим!»
Таким образом, Михаил Александрович задавался вопросом, который совсем скоро станет вопросом для миллионов верующих: когда верные должны совершить свой исход, подобно исходу первохристиан из Иерусалима, дабы не участвовать во грехах блудницы и не подвергнуться язвам ее.
«Письмо к другу» было написано в октябре 1927 года. Спустя два месяца сам Михаил Александрович Новоселов, а также протоиерей Феодор Андреев, как и многие иосифляне, свой исход совершили. Для других же, даже для тех, кто был близок им и по духу, и по взглядам, потребовалось время. Осознавая всю глубину падения и последствий сергианского компромисса, некоторые ревнители Православия все же не сразу прерывали каноническое общение с митрополитом Сергием.
Так, например, в известной работе «Что должен знать православный христианин», которая широко распространялась в церковных кругах, при всей крайне «антисоветской» ее направленности и непримиримости по отношению к богоборческой власти[18], еще только ставился вопрос: «Когда можно прекратить каноническое и молитвенное общение с м. Сергием?»[19]
Первое время ряд выдающихся архиереев, впоследствии мучеников и исповедников, хотя и соглашались с иосифлянами в оценке деяний митрополита Сергия, не сразу решались на полный канонический разрыв с ним, предпочитая разрыв «братского общения». Это, прежде всего, митрополит Казанский Кирилл (Смирнов) и другие близкие ему архиереи, или как принято сейчас говорить – «круг его ближайших последователей», среди них: Дамаскин (Цедрик), Серафим (Самойлович), Прокопий (Титов), Парфений (Брянских). С самого начала эти архиереи понимали, что их несогласие с митрополитом Сергием гораздо глубже, чем спор о канонических нарушениях административного характера. Так, к примеру, епископ Дамаскин (Цедрик) в третьем письме священнику Иоанну Смоличеву в 1929 году (еще до разрыва «братского общения» с митрополитом Сергием) хотя и отмечал, что, по его мнению, митрополит Иосиф, епископ Виктор и другие прервали общение с митрополитом Сергием (Страгородским) несколько преждевременно, но тем не менее, уже ясно осознавал свои экклезиологические разногласия с Сергием:
«Разница между нами и Сергианами совершенно ясна и уже определилась, заключается она чисто в идеологическом понимании сущности Христовой Церкви и проистекающих из сего обязанностей христианина и пастыря. Те стремятся во что бы то ни стало сохранить видимую структуру Церкви, ее управления, и ради сего нарушили, исказили внутреннюю Правду Христовой Церкви. Исповедание Истины Евангельской заменили человеческой дипломатией, ведут к обмирщению и поставляют ее таким путем в качестве орудия для целей богоборцев. Исказивши догматы, основу Церковных правил, оправдывают свои беззакония тем, что не нарушили внешней формы церковных правил. В противность Христову слову (Мф. 6, 24) думают служить Христу, держась за хвостик Сатаны»[20].
А в 1934 году в письме архиепископу Серафиму (Самойловичу) епископ Дамаскин писал: «Путь митрополита Сергия – путь несомненной апостасии. Отсюда и отщетение благодати у него несомненно. Несомненен отход от благодати и всякого сознательно внедряющего в жизнь план “мудрейшего”».
Далее владыка Дамаскин размышлял над вопросом о благодати, но это отдельная тема, которую мы сейчас не будем затрагивать. Важно же для нас то, что он уже однозначно оценивал митрополита Сергия и его дело:
«Совершается суд Божий над Церковью и народом русским. Ныне отняты пастыри от пасомых именно для того, чтобы пред лицом суда каждый совершенно самостоятельно избрал путь свой – ко Христу или от Христа, причем и пастыри судятся, как рабы. Совершается отбор тех истинных воинов Христовых, кои только смогут быть строителями нового здания Церкви, кои только и будут в состоянии противостать самому “зверю”, времена же приблизились несомненно апокалипсические.
Разумеется, в таком плане необходимо быть и сергианам, как необходим был Иуда. Недаром апостол говорит, что “надлежит быть и разномыслиям, дабы открылись искусные”. Тяжесть греха этих соблазнителей определена самим Господом».
Копия приведенного письма была отправлена владыкой Дамаскиным митрополиту Кириллу и была изъята при аресте митрополита летом 1934 года. На допросе митрополит подтвердил, что разделяет взгляды, высказанные в этом письме, и считает епископа Дамаскина своим единомышленником[21]. На следствии в 1937 году митрополит Кирилл о епископе Дамаскине показал: «Отношение его к сергианству одинаковое со мной было»[22].
Как свидетельствуют письма митрополита Кирилла с 1929 по 1934 год (хорошо известные и давно опубликованные[23]), его отношение к сергианству менялось. К 1937 году митрополит занял уже вполне определенную позицию, что он и засвидетельствовал в одном из последних своих писем из Казахстанской ссылки 23 марта 1937 года[24].
Сначала, как указывал владыка Кирилл в этом письме, он считал все сделанное митрополитом Сергием ошибкой, которую тот сам осознает и исправит. Но с тех пор «много воды утекло», и ожидания не оправдались, а напротив, выявилась «обновленческая природа сергианства»:
«Ожидания, что митрополит Сергий исправит свои ошибки, не оправдались, но для прежде несознательных членов Церкви было довольно времени, побуждений и возможности разобраться в происходящем, и очень многие разобрались и поняли, что митрополит Сергий отходит от Православной Церкви, какую завещал нам хранить Св. Патриарх Тихон, и, следовательно, для православных нет с ним части и жребия. Происшествия же последнего времени окончательно выявили обновленческую природу сергианства».
Несмотря на всю предельную ясность этих слов, их пытаются как-то перетолковать и смягчить, доказывая, что митрополит Кирилл продолжал не признавать Сергия лишь как нарушителя административного порядка и т.п.[25] Однако было бы странно, что святитель Кирилл, при всей его «мягкости» и сдержанности, считал бы административные погрешности отходом от Церкви. А то, что этот «отход» митрополита Сергия не что иное, как гибельное отпадение от Церкви, митрополит Кирилл особенно подчеркнул, завершая эту фразу важнейшим выводом, не оставляющим места никаким другим толкованиям: «И, следовательно, для православных нет с ним части и жребия». Если вспомнить, при каких обстоятельствах эти грозные слова были произнесены св. Апостолом (Деян. 8, 18–21)[26], то становится ясно, что святитель Кирилл не мог допустить их легковесное употребление. Тем более что далее по тексту письма он задается вопросом: «Спасутся ли пребывающие в сергианстве верующие?» И отвечает, как обычно отвечали вопрошающим, когда речь шла о судьбах инославных и отпадших от Православной Церкви: «Мы не можем знать, потому что дело спасения вечного есть дело милости и благодати Божией».
В этом же письме владыка Кирилл подчеркнул: «С митрополитом Иосифом я нахожусь в братском общении, благодарно оценивая то, что с его именно благословения был высказан от Петроградской епархии первый протест против затеи митрополита Сергия, и дано было всем предостережение в грядущей опасности». А на допросе 20 августа 1937 года в ответ на вопрос, что он писал в изъятом и неотправленном письме Синицкой про митрополита Иосифа, владыка Кирилл сначала сказал: «Только просил передать привет». Когда на это последовало жесткое требование следователя дать «откровенные показания и не скрывать истинный смысл и факты его деятельности», владыка Кирилл ответил: «Да, я в этом письме писал о том, что считаю митрополита Иосифа Петровых своим единомышленником»[27].
Примечательно, что и это, столь ясное свидетельство единомыслия митрополита Кирилла с митрополитом Иосифом, сейчас хотя и вынуждены признать как непреложный исторический факт, тем не менее, умудряются перетолковывать и утверждают, что не митрополит Кирилл изменил свою позицию и согласился с иосифлянами, а напротив – митрополит Иосиф, который, якобы, «пошел на уступки»[28]. При всей однозначности оценок деяний митрополита Сергия в приведенном письме святителя Кирилла, такое толкование представляется по меньшей мере необоснованным. Апостасийный характер сергианства и отпадение его апологетов и последователей от истинной Церкви были уже налицо, и то, что сразу видели или предчувствовали иосифляне, теперь ясно увидели многие другие архипастыри и пастыри Русской Церкви, в том числе и митрополит Кирилл. Недаром он благодарно оценивал тот факт, что именно иосифляне высказали первый протест против сергианства.
Также еще ранее епископ Дамаскин в письме архиепископу Димитрию (Любимову) выражал ему и митрополиту Иосифу, и всем иосифлянам «чувство глубокой признательности и уважения за мужественное исповедание правды Православия и выражение протеста против великого беззакония, внедряемого в жизни Церкви через посредство обезумевшего м. Сергия и его окружения». «Ваш открытый отказ от участия в зачинавшемся тогда беззаконии, – писал владыка Дамаскин, – Ваш возмущенный голос протеста был услышан всей Церковью и заставил всех ревнующих о Православии и благочестии обратить свое внимание на великую опасность, угрожающую св. Церкви»[29].
Итак, иосифляне оказали существенное влияние на все антисергианское движение. Их взгляды со временем широко распространились в церковной среде. Экклезиология иосифлян не была для Российской Церкви чуждым или случайным явлением, продуктом изощренной мысли утонченных столичных богословов или, напротив, в простоте своих категоричных выводов – порождением темных суеверных масс, охваченных апокалиптическим ужасом. Нет, это была нормальная, спокойная, но твердая реакция здорового Церковного организма на появление и проникновение в него тлетворной и пагубной чужеродной ереси, по словам протоиерея Феодора Андреева, – «Ереси с большой буквы, ибо всякая ересь искажает учение Церкви, здесь же перед нами искажение самой Церкви со всем ее учением».
ПРИЛОЖЕНИЕ
Приведем лишь некоторые примеры поразительного единодушия и преемственности церковных взглядов истинно-православных христиан за рубежом и в угнетенной богоборцами России. Самым характерным примером, с этой точки зрения, можно назвать труды Ивана Михайловича Андреевского (Андреева), который, до своей вынужденной эмиграции из СССР, был непосредственным участником иосифлянского движения, членом Петроградской делегации к митрополиту Сергию в декабре 1927 года, оставившим запись этой исторической встречи. Он предстал живым носителем и продолжателем иосифлянской традиции в зарубежье. Во всех его трудах, написанных и опубликованных уже в середине ХХ века за рубежом, видно, что до самого своего конца он неотступно следовал экклезиологическим воззрениям иосифлян. Так, в 1948 году в статье «Благодатна ли Советская церковь?» Иван Андреев писал:
«Советская церковь нарушила не только св. каноны. Она попрала основной догмат Православия – ДОГМАТ о ЦЕРКВИ (выделено И. Андреевым – прим. Л.С.). Ведь разве к Советской церкви, после всех ее “дел” и “слов” (а слова Церкви это ее дела), применимы слова св. догмата: “Единая, святая, соборная и Апостольская Церковь?” Не звучит ли это теперь кощунством? Ибо нет в ней ни единства, ни святости, ни соборности, ни Апостольского духа.
Не целостное единство, а суммарный конгломерат, не духовный организм “тела Христова”, а лишь формальная церковная организация, в которой нет и намека на святость (ибо святость и принципиальная ложь – несовместимы), ни главное, Апостольского духа любви и ревности к чистоте и правде – вот что собою представляет понятие нынешняя “советская церковь”».[30]
О догматическом отступлении сергианской церкви говорил и зарубежный архиепископ Виталий (Максименко):
«Патриархия нарушила существенный догмат о Церкви Христовой, отвергла Ее существенное назначение – служить обновлению людей, и заменила противоестественным для Церкви служением безбожным целям коммунизма. Это отступление горше всех прежних арианств, несторианств, иконоборчества и прочих. И это не личный грех того или другого иерарха, но коренной грех Московской патриархии, утвержденный, провозглашенный, связанный присягой пред всем светом. Это так сказать догматизированная апостасия»[31].
«Церковью лукавнующих» называл Московскую патриархию в своих проповедях и статьях архиепископ Аверкий (Таушев). Приравнивая сергианство к живоцерковничеству и обновленчеству, которые ставят себе идеей примирение христианства с миром сим, во зле лежащим, владыка Аверкий подчеркивал, что «все это есть по существу уже отпадение от истинной Церкви. Может ли быть Церковью организация, которая призывает к “лояльности”’ служителям сатаны? Это, конечно, уже не Церковь, а лже-церковь или “церковь лукавнующих”, по выражению Слова Божия (Псал. XXV), и состоять в такой “церкви” не только не спасительно, а наоборот – губительно». «Эта “церковь лукавнующих” в настоящее время, хитроумными происками врага человеческого рода, не безуспешно стремится подменить собою и совсем заменить для верующих истинную Церковь – подлинную Церковь Христову»[32].
Такие же суждения в отношении сергианской церкви были и у святителя Филарета (Вознесенского), митрополита РПЦЗ, и у ряда других архиереев.
Подробное исследование этой темы мы находим также в книге протоиерея Бориса Молчанова «Тайна беззакония»[33] и в ряде его статей. Он различал две лжецеркви, возникающие в эпоху апостасии: «церковь лукавнующих» и «церковь-блудницу». Эти лжецеркви, по его мнению, составляют «церковные иерархи со своим клиром и паствою, порвавшие связь с Христовой Истиной, но продолжающие лицемерно выказывать себя членами истинной Церкви». Характерной чертой первой лжецеркви – «церкви лукавнующих», будет то, что она постарается «всячески затушевывать какую-либо разницу между собою и истинной Церковью, постепенно вводя свое ложное учение – под самым высоким лицемерным поводом – в недра истинного православного учения». «“Церковь-блудница” будет возрастать наряду с “церковью лукавнующих”, она не будет изменять вероучения, но вступит в тайный союз с богоборческой властью».
Протоиерей Борис, приводя стихи из 17-й главы Апокалипсиса, обращался к тем же апокалиптическим образам Церкви, что и новомученик Михаил Новоселов, и далее почти его же словами (см. выше «Письмо к другу») давал этим образам следующее толкование:
«Да и как было не дивиться св. Тайнозрителю, когда он вместо истинной Церкви первохристианской – вместо “Жены, облеченной в солнце”, вместо “Чистой Девы”, “Невесты Христовой”, убегающей в пустыню от зверя (в нелегальном положении спасающейся в катакомбах и пустынях от преследования власти), в дали времен узрел жену – “великую блудницу”, сидящую на звере (см. Откров. 12, 17-18). Это усаживание жены на зверя или отпадение Церкви от брачного союза со Христом и вступление ее в незаконный “любодейный” союз с Антихристом или его предтечами – в Св. Писании уподобляется нарушению брачной верности. Поэтому и та часть Церкви, которая изменила Христу, вступила в тайное соглашение с властью зверя, на языке Св. Писания называется “церковь-блудница”».
«На появление “церкви-блудницы” в мировом масштабе можно смотреть как на завершение эпохи апостасии, выводящей на мировую арену Антихриста».
«Имея зарождение “церкви лукавнующих” в виде всех стараний Всемирного объединения христиан не в Церкви, а на почве отвлеченного христианства, мы имеем и зарождение “церкви-блудницы” в лице Советской церкви, вступившей в деловой союз с “красным зверем”, преисполненным “именами богохульными”»[34].
В своих статьях, постоянно подчеркивая это отпадение сергианской церкви, протоиерей Борис разоблачал стремления некоторых около-церковных авторов объединить, с одной стороны, подчинившихся богоборцам и, с другой – сохраняющих духовную свободу исповедников, в общую «Плененную Церковь» (см. его отклик на очерк Глеба Рара «Плененная Церковь», 1954 год).[35]
«“Советская Церковь” – не плен Церкви, не угнетение Церкви, не гонение на Церковь, а нечто существенно иное. – Писал в это же время многолетний редактор «Православной Руси» архимандрит Константин (Зайцев). – Все это было и осталось, но все это уже достигло результата, который надо иметь мужество видеть. То, что именуется “Советская Церковь”, служит Советской власти, а так как эта власть воинствующе безбожная власть, то и “Советская” Церковь уже не Церковь; одновременно служить Богу и Велиару нельзя»[36].
Из редакционной статьи архимандрита Константина в 1953 году:
«Особенность нашего времени заключается в том, что темные силы ополчились не против того или иного учения Церкви, а против самого явления и понятия Церкви, против догмата Церкви и это, при том, не в образе отвлеченного колебания этого догмата, а в образе подмены Церкви как живого явления ее фальсификацией. Самый, так сказать, аппарат Церкви становится гнездилищем неправды, тем заставляя верных отрекаться от этой “подмененной” Церкви как от Лжецеркви, как от “анти-Церкви” – и уходить в пустыню, унося с собою туда Историческую Церковь. Мы наблюдаем страшный процесс внутреннего перерождения нынешней плоти Церкви, совлекающего с нее благодать Духа Святого – нечто ранее неслыханное и свидетельствующее о том, что мир переходит в новую стадию своего бытия.
Непредставимое произошло с Русской Православной Церковью. На месте святе водворилась – в духовном смысле – настоящая мерзость запустения. Там, где благоухала Церковь Истинная, отраву источает ныне “Церковь лукавнующих”»[37].
Замечательный духовный писатель и мыслитель архимандрит Константин, исполненный эсхатологических переживаний, подобно своему земляку, петроградскому исповеднику протоиерею Феодору Андрееву, разделял и его взгляды на сергианство и судьбы Церкви, о чем свидетельствует содержание материалов, публиковавшихся в журнале «Православная Русь», а также в ежемесячных и ежегодных приложениях к нему – журналах «Православная жизнь» и «Православный путь», которые архимандрит Константин редактировал с 1949 до 1974 год. Достаточно перелистать страницы этих изданий, чтобы в этом убедиться.
Таким образом, официальные печатные органы Русской Православной Церкви За границей, являясь выражением ее соборного голоса, по крайней мере, на протяжении четверти века, когда их редактировал архимандрит Константин, выражали именно иосифлянские взгляды в отношении сергианского отступления.
ССЫЛКИ:
[1] Архив УФСБ СПб. – Д. П-78806. – Т. 3. – Л. 174 об.-177; Польский М., протопресвитер. Новые мученики Российские. – Джорданвиль, 1957. – Ч. 2. – С. 7-8.
[2] «Более того, – заметил владыка Иосиф во время следствия в 1930 году, – я сам значительно позднее втянут был в это течение, и не оно шло и идет за мною, а скорее я плетусь в хвосте за ним». Действительно, «иосифляне», можно сказать, опережали своего руководителя и подталкивали его к решительным действиям. Понятно, что на следствии, протестуя против «пристегивания его имени к антисергианскому движению», владыка Иосиф пытался преуменьшить свою роль, ведь он давал на следствии показания не для точной записи в анналы истории, а для протокола по одному из крупнейших дел «контрреволюционной организации церковников», руководство которой ему инкриминировалось как одному из главных ее лидеров. Однако сам факт его духовного, а в дальнейшем и административного участия, был очень важен. И митрополит Иосиф в показаниях на допросах все же должен был признать: «Отрицая свое руководство над антисергианским течением, я все же сознаю, что нужно же кому-нибудь было быть духовным руководителем и советником того духовенства и верующих, которые в силу лжи митрополита Сергия отошли от него и примкнули к нашей церковной группе. А так как, кроме меня, никого из митрополитов не было, то только этим я и объясняю, что ко мне со всего Союза приезжало духовенство и верующие за советами» (ЦА ФСБ РФ. – Дело «Всесоюзной организации ИПЦ». – Т. 11. – Л. 309).
[3] Алчущие правды: Материалы церковной полемики 1927 года. // Cост. свящ. А. Мазырин, О.В. Косик. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2010. – С. 311.
[4] ГА РФ. – Ф. 5919. – Оп. 1. – Д. 1: «Дело митрополита Сергия». – Л. 170-174; Алчущие правды… – С. 311.
[5] Эта работа представляет собой ответы на основные вопросы и упреки противников иосифлян и содержит пространные цитаты из Св. Писания, свв. канонов и трудов свв. отцов.
[6] Архив УФСБ СПб. – ЛО. – Д. П-78806. – Т. 3. – Л. 66-87.
[7] Цит. по: Апология отошедших / Священноисповедник Димитрий, архиепископ Гдовский: Сподвижники его и сострадальцы. Жизнеописания и документы. – М.: Братонеж, 2008. – С. 363-365.
[8] Об отце Феодоре Андрееве есть интересное свидетельство протоиерея Василия Верюжского. На следствии 1931 года он показал, что о. Феодор «сделался, можно сказать, крайним центром нашей организации. Он был идеолог нашего движения. Свои и наши общие взгляды он выразил особенно в последнем обращении к митр. Сергию при нашем отходе от него 1/14 декабря 1927 г., а также в ответном письме епископу Иннокентию Тихонову от лица епископа Димитрия Любимова».
[9] Упомянутое письмо до последнего времени не было известно. Однако, опубликованный в ежемесячнике «Сербский крест» (№ 30, 2002 г.) и затем широко разошедшийся по другим периодическим изданиям и в интернете, документ под заголовком «Апология отошедших», судя по всему, и является как раз этим письмом. Несмотря на то, что «Апология…» опубликована под именем М.А. Новоселова, внимательное прочтение этого документа показывает, что он составлен: во-первых, клириком, во-вторых, именно петроградским, в-третьих, письмо адресовано архиерею, также петроградскому, но находящемуся, очевидно, в ссылке; и, наконец, это ответ на письмо ссыльного архиерея епископу Димитрию. Впрочем, авторство не меняет сути дела, и не исключено, что М.А. Новоселов мог участвовать в составлении этого письма, как и в составлении первого (ноябрь–декабрь 1927 года) обращения духовенства и мирян Петроградской епархии к митрополиту Сергию.
[10] Стр. 39 письма.
[11] ГА РФ. –Ф. 5919. – Оп. 1. – Д. 1: «Дело Митрополита Сергия». – Л. 76.
[12] Там же. – Л. 224.
[13]Там же. – Л. 129 об.-131.
[14] Еще св. Киприан Карфагенский усматривал в этом образе изображение всякого еретического и раскольнического искажения учения о Церкви.
[15] Этот документ датирован 22 октября 1927 года и находится в Сборнике «Дело митрополита Сергия» (Л. 122-129). В сборнике Акты Святейшего патриарха Тихона, позднейшие документы и переписка о каноническом преемстве высшей церковной власти, 1917-1943 // Сост. М.И. Губонин. – М., 1994, он опубликован за подписью архиепископа Илариона (Троицкого). Но очевидно, что это ошибка. И по стилю, и по содержанию письмо, несомненно, принадлежит перу М.А. Новоселова.
[16] При этом Михаил Новоселов оговаривается: «Не подумайте, что эти апокалиптико-эсхатологические экскурсы я предлагаю в качестве непреложно-догматического толкования данных мест Откровения. Это было бы с моей стороны непозволительным притязанием, безумной дерзостью. Я только провожу пунктирную линию между образами Апокалипсиса и современными церковными событиями, которые невольно обращают мысль к этим пророческим образам, со своей стороны бросающим яркий луч света на данные события» (Акты Святейшего патриарха Тихона… – С. 526-527). Размышляя над таинственными образами Апокалипсиса, М.А. Новоселов отмечает, что «для уразумения великих тайн Божиих (а здесь несомненно мы соприкасаемся с тайной великой и, в известном смысле, последней тайной земного бытия Церкви и человечества) ничего не могут дать ни самая широкая ученость, ни самый глубокий природный ум, ни самая утонченная естественная мистика. И что лишь стяжавшие Дух Святой, приявшие Царствие Божие внутрь себя, смогут их уразуметь, и увидеть признаки приближающейся кончины мира, распознать антихриста и не быть обманутыми его ложью».
[17] Катакомбный самиздат – различные рукописи и машинописные тексты, имевшие хождение среди тайных христиан в Советском Союзе – еще ждет своих исследователей. Однако даже комплексное его изучение едва ли что изменит в оценке происходивших церковных событий и добавит к тому, что известно нам из устного предания. О катакомбном самиздате см. доклад в наст. сборнике: Шумило С.М., Шумило В.В. Исследования катакомбных рукописных книг: к постановке проблемы.
[18] «20. Какая же причина гонений на Церковь со стороны неверующей власти?
Ответ: Стремление подчинить Церковь своему влиянию и через Церковь приготовить народ к будущему принятию антихриста как политического и духовного главы падшего человечества».
«28. Какая же причина стремлений современной гражданской власти подчинить Церковь своему влиянию и власти, когда антихриста еще нет и власть гражданская не еретическая, но только неверующая?
Ответ: Власть гражданская борется с Богом путем проведения в жизнь коммунистических идей, и есть переходная ступень к полному антихристианству и власти богоборца антихриста. И ей необходимо одобрение ее действий со стороны духовенства, которое, кстати сказать, необходимо и самому богоборцу антихристу, и которое в лице лжепророка (Апок. 13, 11) укажет народу антихриста как самого лучшего правителя. Чтобы этого достигнуть, необходимо изменить понятия духовенства, приучив его волей или неволей зло называть добром, а добро злом, а этого без гонений на духовенство сделать невозможно». См.: «Дело митрополита Сергия». – Л. 215 об., 216 об.
[19] Поскольку эта работа была составлена не ранее 1928 года, то есть в то время, когда и о. Феодор Андреев, и М.А. Новоселов уже прекратили всякое общение с митрополитом Сергием (Страгородским), то совершенно необоснованным представляется приписывание им авторства этой работы. Скорее всего, написана она была в Ярославской епархии.
[20] Косик О.В. Истинный воин Христов: Книга о священномученике епископе Дамаскине (Цедрике). – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. – С. 301.
[21] Мазырин А. Священномученик Митрополит Кирилл (Смирнов) как глава “правой” Церковной оппозиции: Круг его ближайших последователей // Богословский сборник. – Вып 12. – М.: Изд-во ПСТБИ, 2003. – С. 251.
[22] Журавский А.В. Во имя правды и достоинства Церкви: Жизнеописание и труды священномученика Кирилла Казанского. – М., 2004. – С. 365.
[23] Акты Святейшего патриарха Тихона… – С. 638, 655, 700-702.
[24] Черновик этого письма, изъятый при последнем аресте митрополита Кирилла, был приобщен к Чимкентскому следственному делу 1937 года. В 1997 году этот черновик, вместе с рядом других документов, был передан из Архива УКНБ по Южно-Казахстанской области (нынешний Архив ДКНБ РК по Чимкентской обл.) в ЦГА Санкт-Петербурга и затем впервые был опубликован в книге: История Русской Православной Церкви: От восстановления Патриаршества до наших дней, 1917–1970 / Под общей ред. М.Б. Данилушкина. – Т. 1. – СПб., 1997.
[25] Таково мало убедительное объяснение А.В. Журавского: «Для митрополита Кирилла “обновленческая природа сергианства” заключается не в утверждении за деятельностью митрополита Сергия какой-то новой “ереси”, а в нарушении нормального (патриаршего) церковного управления, в своеобразном “обновлении” митрополитом Сергием формы высшей церковной власти» (Журавский А.В. Указ. соч. – С. 357-358).
[26] «Видев же Симон, яко возложением рук апостолов дается Дух Святый, принесе им сребро, глаголя: дадите и мне власть сию, да на негоже аще положу руцы приимет Духа Святого. Петр же рече к нему: сребро твое с тобою да будет в погибель, яко дар Божий непщевал еси сребром стяжати. Несть ти части, ни жребия в словеси сем…» (Деяния 8, 18-21).
[27] Журавский А.В. Указ. соч. – С. 367.
[28] См.: Мазырин Александр, иерей. Высшие иерархи о преемстве власти в Русской Православной Церкви в 1920-х – 1930-х годах. – М., 2006. – С. 186-187.
[29] Архив УФСБ РФ СПб. – ЛО. – Д. П-78806. – Т. 4. – Л. 102.
[30] Андреев И. Благодатна ли Советская церковь? – Джорданвилль, 1948. – С. 7.
[31] Из духовного наследия архиепископа Виталия // Православная жизнь. – 1973. – № 8. – С. 31.
[32] Аверкий (Таушев), архиепископ. «Созижду Церковь Мою, и врата адова не одолеют ей» // Современность в свете Слова Божия. – Джорданвиль, 1975. – Т. 1. – С. 380; Он же. Поклонение Богу в духе и истине // Современность в свете Слова Божия… – С. 371.
[33] Молчанов Борис, протоиерей. Тайна беззакония. – Харбин, 1938; глава из этой книги была опубликована отдельной брошюрой в США, см.: Молчанов Борис, протоиерей. Эпоха Апостасии. – Джорданвиль, 1960; см также: Он же. Эпоха Апостасии // Вера и Жизнь (Чернигов). – 1992. – № 1.
[34] Цит. по изданию: Луч Света: В защиту Православной веры, в обличение атеизма и в опровержение доктрин неверия. – Джорданвилль, 1971. – Ч. 2. – С. 197-199.
[35] «Автор в своем труде дает два образа Церкви в СССР, – пишет протоиерей Борис, – один образ гонимой “Тихоновской” Церкви, предпочитающей уйти в нелегальное существование, в “катакомбы”, чтобы сохранить внутреннюю свободу. Другой образ “Сергиевской” (продолжаемой патриархом Алексием) Церкви, покупающей свою внешнюю свободу ценою полного внутреннего рабства безбожному правительству, и своего сотрудничества с ним. Но, несмотря на их полную противоположность, автор старается объединить их под одним общим названием “Плененной Церкви”. Можно ли объединить тех, чья оболганная правда и чья невинная кровь до сих пор вопиют к небу, с теми, которые не только не выступили на их защиту, но и похулили их мученический и исповеднический подвиг, назвав его преступлением, справедливо наказанным Советской властью? Что общего между теми, которые продолжают томиться в “горьких работах”, медленно умирать от голода и пыток в тюрьмах за правду Божию, за сохранение внутренней свободы Церкви, и теми, которые пользуются всеми преимуществами советской легализации, получают высокие советские награды и носят на груди рядом с Панагией ордена с нечестивыми изображением Ленина? Автор напрасно старается искусственно связать их вместе в одну и ту же Церковь, и лелеять надежду на то, что они в будущем “сольются в единый поток Святой Церкви”. Правда с неправдой “слиться” никогда не смогут. Об одном только можно молиться и на одно только можно надеяться – это на слезное покаяние падшей части Церкви и на ее просьбу о принятии ее вновь в лоно истинной Святой Российской Церкви». См.: Молчанов Борис, протоиерей. Глеба Рара (А. Ветрова) «Плененная Церковь» (Очерк развития взаимоотношений между Церковью и властью в СССР. Посев. 1954) // Лже-православие на подъеме: Сборник статей и материалов, извлеченных из журнала «Православная Русь». – Джорданвиль, 1954. – С. 207.
[36] Триптих лжи // Лже-православие на подъеме… – С. 104.
[37] См.: Православная Русь. – 1953. – № 9. – С. 1.
«Письмо к другу» [архиеп. Илариона (Троицкого)] от 22 октября 1927 года из Москвы.
День Казанской иконы Божией Матери.
Дорогой друг мой. Под впечатлением Вашего тревожного письма от 15 октября я заглянул в свою записную тетрадь, припомнив, по ассоциации с предметом Вашей тревоги, некоторыя сравнительно давнишния свои заметки в ней. Вот, что набросано было мною 3-е марта 1924 г.
«Может быть скоро мы окажемся среди океана нечестия малым островком. Как постепенно подкрадывалось и быстро совершилось падение самодержавия и изменился лик русской государственности, таким же образом происходит и может быстро завершиться реформационно-революционный процесс в Церкви.
Картина церковных отношений может измениться как в калейдоскопе. Обновленцы могут вдруг всплыть, как правящая в России «церковная партия», причем противников у нее может оказаться очень немного, если открытые обновленцы и скрытые предатели поладят между собою и совместно натянут на себя личину каноничности. Конечно, можно гадать иначе, – но, во всяком случае истинным чадам Вселенской Христовой Церкви надлежит бодрствовать и «стоять с горящими светильниками»».
«Трудность настоящего времени для православного человека состоит в том, (занесено мною в тетрадь под 14 января 1925 г.), что теперешняя жизнь Церкви требует от него высоко-духовного отношения к себе. Нельзя полагаться на официальных пастырей (Епископов и иереев), нельзя формально применять каноны к решению выдвигаемых церковною жизнью вопросов, вообще нельзя ограничиваться внешне-правовым отношением к делу, а необходимо иметь духовное чувство, которое указывало бы путь Христов среди множества троп, протоптанных дикими зверями в овечьей одежде.
Жизнь поставила вопросы, которые правильно, церковно правильно, возможно разрешить только перешагивая через обычай, форму, правило и руководясь чувствами, обученными в разпознавании добра и зла. Иначе легко осквернить святыню души своей и начать сжигание совести (1Тим. 6. 2) через примирение – по правилам с ложью и нечестью, вносимыми в ограду Церкви самими епископами. На «законном» основании можно и антихриста принять…
Церковныя события последних недель не являются ли подтверждением этих предчувствий. То жуткое, что предощущалось душою 2–3 года тому назад, не придвинулось ли к нам вплотную с вторичным вступлением митр. Сергия в управление Русской Православной Церковью.
Вызвавшее многообразные толки и вполне заслуженную отрицательную критику, послание митр. Сергия и его Синода не бросило ли возглавляемую им церковную организацию в омерзительныя прелюбодейныя объятия атеистической, богохульной и христоборческой (антихристовой) власти, и не внесло ли страшное нечестие в недра нашей Церкви.
Заметьте: изошло это послание не оть раскольников обновленцев, борисовцев, и им подобных отщепенцев, и не от еретиков-живоцерковников, а от законной, канонической, повидимому православной (власти) иерархии; главныя положения послания опираются на тексты Св. Писания (правда, иногда не без искажения их: см. лжетолкования на 1Тим. 2, 1–2) и на как будто однородный с настоящим опыть древней Церкви.
С другой стороны, послание стремится и надеется удовлетворить насущной потребности истомленных гонениями верующих душь, и сулит им мир и покой. И многие – многие, особенно из духовенства, сочувственно откликаются на обращение митр. Сергия и его Синода.
В результате этой симфонии богоборной власти и православной законной иерархии, получаются уже некие «благие» плоды: епископы (правда, далеко не высшего качества и не очень виновные) возвращаются из ссылки (правда, не дальних) и поставляются на епархии (правда, не на те, с которых были изгнаны), при исполняющем обязанности патриаршего местоблюстителя – м-те Сергие имеется Синод (правда, похожий скорее на оберпрокурорскую канцелярию из законных иерархов – весьма в церковном отношении скомпрометированных своей давнишней и порочной ориентацией на безбожное ГПУ, – да и не этим одним); имя м-та Сергия произносится всеми, как имя действительного Кормчего Русской Церкви, но увы, – имя это является фальшивой монетой, так как фактическим распорядителем судеб Русской Церкви и Ея епископов, как гонимых, так и милуемых и поставляемых на кафедры, – является нынешний «обер-прокурор Православной Русской Церкви» – Евгений Александрович Тучков!
(Всего этого не осмелится отрицать митр. Сергий, явившийся несчастным инициатором, вернее – орудием чудовищного замысла – осоюзить Христа с Велиаром.)
Всякому имеющему очи, чтобы видеть и уши, чтобы слышать, – ясно, что вопреки декрету об отделении Церкви от государства, Православная Церковь вступила в тесный, живой союз с государством. И с каким государством… возглавляемым не православным царем (в свое время многие члены Церкви энергично возражали против связи Церкви и с таким государством), а властью, которая основной задачей своей ставит уничтожение на земле всякой религии, и прежде всего православного христианства, так как она в нем видит (и справедливо) основную мировую базу и первоклассную крепость в ея брани с материализмом, атеизмом, богоборчеством и сатанизмом (коему, как гласит народная молва, причастны некие из властей века сего).
«…И повел меня (один из семи ангелов) в духе в пустыню, (вещает св. Иоанн Богослов), и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными… И на челе ея написано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. Я видел, что жена была упоена кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых и, видя ее, дивился удивлением великим» (Апок. XVII, 3, 5, 6).
И как было не дивитъся св. Тайнозрителю, когда он узрел «преображение» Жены, облеченной в солнце, имевшей под ногами луну и на голове венец из двенадцати звезд» (Апок. 12, 1) в «великую блудницу» – (18, 2), в «мат блудницам и мерзостям земным» – «упоенною кровию святых и кровию свидетелей Иисусовых».
Друг мой, не видим ли мы нечто подобное собственными глазами. Не проходят ли пред нами события, невольно приводящия на память духовныя созерцания новозаветного Тайновидца. Сопоставьте приведенныя выше слова Апокалипсиса с делом и деяниями наших живоцерковников и обновленцев. Не приложимы ли они к ним до мелочей.
Гораздо значительнее, в указанном апокалипсическом смысле, представляются события последних дней, связанныя с именем м-та Сергия. Значительнее хотя бы по одному тому, что усаживается на зверя багряного с именами богохульными не самочинная раскольница, а верная жена, имущая образ подлинного благочестия, видимо не оскверненного предварительным отступничеством. В этом главная, жуткая сторона того, что совершается сейчас на наших глазах, что затрагивает глубочайшие, духовные интересы чад Церкви Божией, что неизмеримо по своим последствиям, не поддающимся даже приблизительному учету, но по существу имеющим мировое значение, ибо таковое значение принадлежит изначала Церкви Христовой единой, истинной (Православной) на которую с небывалой силой ополчаются теперь силы ада, и с которой мы органически связаны не в сем только веке, но и в будущем. Как же нам быть в эти страшныя минуты новой опасности, надвинувшейся по наущению вражьему на нашу мать – св. Православную Церковь? Как быть, чтобы не выпасть из Ея благодатного, спасительпого лона – и не приобщиться нечестию богохульного зверя и сидящей на нем блудной жены. «Господи, скажи нам путь, в оньже пойдем!…»
«После сего я увидел, – продолжает Иоанн Богослов, – иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую. Земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно, громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице» (18, 1–2).
«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нея, народ Мой, чтобы не участвовать вам во грехах ея и не подвергнуться язвам ея» (18, 4).
Не подумайте, дорогой мой, что эти апокалипсически-эсхатологические экскурсы я предлагаю в качестве непреложно-догматического толкования данных мест Откровения. Это было бы с моей стороны непозволительным притязанием, безумной дерзостью. Я только провожу линию между образами Апокалипсиса и современными церковными событиями, которыя невольно обращают мысль к этим пророчественным образам, со своей стороны бросающим яркий луч света на данныя события. Можно неоднократно усматривать еще в Ветхом Завете, что одне и те же пророчества сперва исполняются в малом виде, а потом имеют еще другое высшее и окончательное исполнение. (Не привожу примеров, чтобы не растягивать письма). Это обстоятельство достаточно для опровержения делаемых мною сопоставлений, которыя я предлагаю Вашему христианскому размышлению и отдаю на Ваш дружеский суд, усердно прося Ваших молитв о вразумлении меня благодатиею духа истины, без которого наши человеческия соображения о предметах духовных часто оказываются лишь «пленной мысли раздражением».
Ни самая широкая ученость, ни самый глубокий природный ум, ни самая утонченная естественная мистика не могут дать удовлетворительного разумения Тайн Божиих. А здесь мы соприкасаемся с Тайной великой и, в известном смысле, последней Тайной земного бытия Церкви и человечества.
Тайной является и вопрос, естественно возникающий при чтении последнего приведенного мною стиха из Апокалипсиса, где верные призываются выйдти из Вавилона, – вопрос о том – когда народ Божий должен совершить свой выход. Один чрезвычайно ученый, вдумчивый, благочестивый и скромный толкователь Апокалипсиса так отвечает на этот вопрос: «тогда, когда Вавилон будет на рубеже Суда»… «Это познала на своем опыте первенствующая Церковь, которая вышла из развалин Израиля и Иерусалима; сигналом освобождения ея был суд над ветхозаветным народом».
Тогдашняя Церковь имела достаточно ясныя и даже внешне определенныя указания для своего исхода (Матф. 24, 15; Марк. 13, 14 и особенно Лук. 21, 20). Можно ли сказать это о признаках предписанного Господом исхода в ту заключительную эпоху, к которой в конечномь счете относятся слова Тайнозрителя, и предварением которой, можно думать, является теперешнее время.
«Рубеж Суда» не есть ни хронологически, ни внешне видимый признак. Для усмотрения его люди должны иметь отверстыми духовныя очи. Фарисеям, вопрошавшим Господа; «когда придет Царствие Божие», был дан ответ – «не приидет Царствие Божие с соблюдением», т. е. Царство Божие не придет приметным образом для чувственных очей, ниже рекут: «се зде или онде. Се бо Царствие Божие – внутрь вас есть» (Лук. 17, 20–21).
«Это значит, – по словам епископа Игнатия Брянчанинова, – надо оставить плотскую и греховную жизнь, потом посредством покаяния и жительства по евангельским заповедям – очистить и украсить душевный храм, по совершении чего Святый Дух осеняет его, совершает окончательное очищение и убранство. В такой храм нисходит Бог и учреждает в нем свое духовное, невидимое, но вместе с тем вполне ощутимое и познаваемое царство. Кто принял внутрь себя Царство Божие, тот может узнать и избежать Антихриста или противостать ему. Кто не принял внутрь себя Царство Божие, тот не узна́ет антихриста, тот непременно незаметным для себя образом соделается его последователем, тот не узнает приближающейся кончины мира и наступающего страшного второго пришествия Христова, оно застанет его не готовым. Никакое человеческое учение недостаточно для наставления тому, что требует наставления от Самого Бога. Стяжавший внутри себя Царствие Божие имеет руководителем Святого Духа, Который наставляет всякой истине руководимого Им Человека, не допускает его быть обманутым ложью, облекающейся для удобнейшего обмана в призраки истины.
Очень верно сказал некий блаженный инок, беседуя об антихристе: «Многие имеют веровать в антихриста, и станут славить его как бога крепкого. Имеющие Бога всегда в себе и просвещенные сердцами увидят истину чистою верою и познают Его. Всем бо имущим Боговедение Божие и разум тогда разумно будет пришествие мучителя. Имущим же присно (всегда) ум в вещах жития сего и любящим земная, – неприятно сие будет – привязаны бо суть в вещах житейских. Аще и услышит слово – то не имут веры, но паче омерзит им глаголяй сия». Они сочтут его сумасбродом, достойным лишь презрения, сожаления. Омраченное своим плотским мудрованием человечество вовсе не будет верить второму пришествию Господа. Придут в последние дни ругатели, по своих похотех ходяще и глаголюще – где есть обетование пришествия Его, отнележе бо отцы усопша, вся тако пребывают от начала создания (2Петр. 3, 3–4) (Еп. Игн. Брянчанинов т. 4 стр. 266–8, изд. 3-е, 1905 г. «Поучение в понедельник 26 недели «О Царствии Божием»).
Что господствующая ныне – «власт темная» мыслит, разсуждает и действует в стиле этих ругателей, – нельзя сомневаться, и тому не следует дивиться. Но не сочтут ли современные церковные деятели, «имущие образ благочестивый», силы же его отвергшиеся, и с «ругателями» века сего сочетавшиеся, не сочтут ли они «сумасбродством, достойным лишь презрения», тех дум, которые износит моя душа навстречу вашей…
На днях один епископ, отстаивая ориентацию митр. Сергия, запугивал своего собеседника, с негодованием отвергшего эту ориентацию, между прочим тем, что несогласные с митр. Сергием останутся в таком меньшинстве, что явятся одной из многочисленных существующих у нас мелких сект. Бедный епископ, – прибегающий к такому безсильному аргументу в защиту народившейся «советской православной церкви». Вспомнил бы он слова Спасителя о том, что «найдет ли, прийдя, Сын Человеческий, веру на земле». Вспомнил бы множество апостольских предсказаний об оскудении веры и умножении всякого нечестия в последния времена. Вспомнил бы сказанное Тайнозрителем о Церкви Сардийской, в которой лишь несколько человек «не осквернили одежд своих», и о славной Церкви Филадельфийской, «не много имевшей силы», и не отрекавшейся от имени Христова.
«Множество» и «большинство» необходимы в парламентах и партиях, а не в Церкви Божией, являющейся столпом и утверждением истины, независимо от этих категорий и даже вопреки им (ибо имеет свидетельство в самой себе).
«Евангелие будет всем известно», говорит епископ Феофан (в толковании на 2-е послание к Солунянам), о временах предшествующпх явлению антихриста, «но одна часть будет в неверии ему, другая – наибольшая – будет еретичествовать, не Богопреданному учению следуя, а построя себе веру своими измышлениями, хотя на основании слов Писания. Этим самоизмышленным верам числа не будет… Их и теперь уже очень много, а будет еще больше. Что ни Царство, то свое Исповедание, а там, что ни область, а далее, что ни город, а под конец, м. б. что ни голова, то свое исповедание. Где сами себе строят веру, а не принимают Богопреданную, там иначе и быть нельзя. И все также будут присвоять себе имя христиан». Это с одной стороны, с другой, по словам еп. Феофана, – «будет часть и содержащих истинную веру, как она предана св. Апостолами. Но из этих не малая часть будет по имени только правоверными, в сердце же не будет иметь того строя, который требуется верою, возлюбив нынешний век. Хотя имя христианское будет слышаться всюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это – одна видимость, внутри же отступление истинное. На этой почве народится антихрист – возрастет в том же духе видимости. Потом, отдавшись сатане, явно отступит от веры и… не содержащих христианства в истине увлечет к явному отсуплению от Христа Господа». Сто́ит над этим задуматься, дорогой мой.
Уместным считаю сообщит вам следующее. Недели 2–3 тому назад я читал письмо, в котором приводились подлинныя (в ковычках) слова одной не безызвестной «блаженной», сказанные ею на запрос о митр. Сергие, причем вопрошавший, указывал что митр. Сергий не погрешил против православных догматов, что он не еретик. «Что же, что не еретик, – возразила блаженная, – он хуже еретика, он поклонился антихристу, и, если не покается, участь его в геенне вместе с сатанистами».
Все это вместе взятое и многое другое, видимое и слышимое, и заставляет живыя верующия души насторожиться и внимательно всматриваться в развертывающуюся перед ними картину усаживания жены на зверя. Эти души чуют новую, небывалую опасность для Церкви Христовой и, естественно, бьют тревогу.
Оне, в большей части своей, не спешат окончательным разрывом с церковными прелюбодеяниями в надежде, что совесть их не сожжена до конца, а потому возможны покаяние и исправление, т. е. отвержение начатого ими темного дела. Сбудется ли это чаяние?..
От души говорю: подай Господи! Но в самой глубине ея нахожу сомнение, и, однако пока не ставлю точки над и. Пусть поставит ее время, а точнее сказать – Владыка времени. Он же да сохранит нас от легкомысленной поспешности в том страшно ответственном положении, в которое мы поставлены Промыслом Божиим.
Вот, друже, мой, не краткий отклик на Ваше коротенькое, но кровию сердца написанное письмо.
Господь да сохранит и да умудрит нас в эти тяжкия и жуткия минуты нашего духовного бытия.
Любящий Вас брат о Господе.
П. С. Письмо это писал, многократно отрываясь от него, в обстановке, препятствовавшей сосредоточению мысли. Поэтому не взыщи, если оно вышло отрывочным и несколько несвязным. На днях, м. б., напишу Вам еще о том же предмете, но с другой стороны касаясь его.